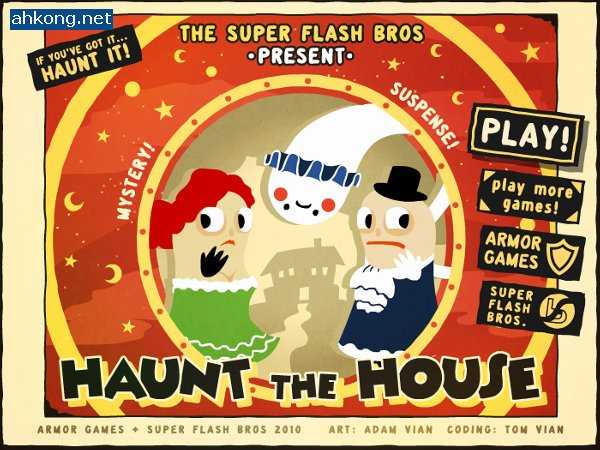Драуг (draugr), в скандинавской мифологии и фольклоре живой мертвец, обитающий в могиле викинга. Собственно, это тело покойного, сохранившее в той или иной мере остатки личности или души. Драуг ревностно охраняет сокровища, помещенные в могилу.
Драуг — «синий, как мертвец» (hel-blár) или «бледный, как труп» (ná-fölr) и испускает сильный смрад разложения. Он обладает нечеловеческой силой и способен по желанию увеличиваться в размерах.
Иногда драуги выходят из могил по ночам; по некоторым описаниям, они просачиваются из-под земли в виде струйки дыма или туманного облака. Являясь в мир живых, они наводят на людей ужас и сеют смерть. Драуг убивает различными способами: увеличивается в размерах и раздавливает жертву своим чудовищным весом; ломает человеку спину; пожирает его заживо; высасывает из него кровь. Животное, пасущееся у могилы драуга, может внезапно обезуметь.
Иногда драугам приписывали способность управлять погодой, предвидеть будущее, превращаться в животное.
Зачастую драуг неуязвим для обычного оружия, так что герой может победить его только голыми руками — поборов и загнав обратно в могилу. Но даже побежденный, живой мертвец может вернуться, если не уничтожить его тело особым образом. Чтобы уж наверняка избавиться от драуга, следует отрезать ему голову, а тело сжечь и утопить пепел в море.
Чтобы предотвратить превращение покойника в драуга, на грудь ему клали раскрытые железные ножницы, а в одежде прятали веточки и соломинки. Чтобы мертвец не смог ходить, ему связывали вместе большие пальцы ног или протыкали подошвы иглами. Кроме того, вынося гроб из дому, его трижды поднимали и ставили наземь, поворачивая головой в разные стороны, чтобы драуг запутался и не смог найти обратную дорогу.
Но самым эффективным «профилактическим средством» от драуга считалась так называемая «трупная дверь» — традиция, основанная на представлении о том, что мертвец может вернуться только тем же путем, которым он покинул дом. В доме проделывали особую дверь, через которую покойника выносили вперед ногами, причем вокруг него должно было столпиться множество людей, чтобы мертвец не смог разглядеть, что происходит. После этого дверь закладывали кирпичами. Считается, что эта традиция зародилась в Дании, а впоследствии распространилась по всей Скандинавии.
Выдвигалось предположение о родстве между словами «драуг» и «дракон» (драконы также изображаются стражами сокровищ). Некоторые исследователи причисляют к разряду драугов чудовищного Гренделя (персонаж «Беовульфа»).
В исландской фантастической саге о Хромунде Грипссоне, сохранившейся только в пересказе, повествовалось о борьбе викинга Хромунда (Hrómundr) с нежитью-драугом — королем-колдуном Траином (Þráinn), который при жизни был королем Галлии и носил имя Валланд. Траину принадлежал волшебный меч Мистельтейн (Mistelteinn, «омеловый прут»; ср. прут омелы, сразивший бога Бальдра), лезвие которого никогда не могло затупиться. Этим мечом Траин убил 420 человек, включая шведского конунга Семинга. Хромунд вступил с Траином в схватку, поборол его голыми руками, сжег его тело и забрал себе Мистельтейн.
В «Саге о Греттире» фигурирует драуг Глам (Glamr), имя которого связано со значением «неверный, бледный свет» и употребляется в источниках не только как имя собственное, но и как одно из названий луны. Пастух Глам при жизни «нраву был сварливого и злобного», «не молился, и не верил в Бога»; «всем он был ненавистен». Погиб он таинственной смертью в Рождественскую ночь, и когда тело его нашли, «он был мертв и черен, как Хель, и огромен, как бык. Вид его был отвратителен, и они содрогнулись. Все же они попытались отнести его в церковь, но еле-еле дотащили и до края одной расселины неподалеку от того места. […] Немного погодя люди стали замечать, что Гламу не лежится в могиле. Много было от этого бед людям: иные, увидев его, теряли сознание, а иные и разум. Сразу после Рождества люди видели его на дворе. Взял их ужас. Многие кинулись прочь из тех мест. Скоро Глам стал ночью ездить верхом на коньке крыши, так что крыша едва не рушилась. Стал он ходить потом и днем и ночью. Люди не смели и заезжать в ту долину, хотя бы по важному делу. Все в тех местах считали это великой напастью».
Затем Глам убивает нового пастуха и вынуждает Торхалля, своего бывшего хозяина вместе с семьей покинуть дом. «А всю оставленную им скотину перебил Глам. После этого он стал ходить по всей долине, опустошая все дворы. […]. Никому нельзя было заходить в ту долину с конем ли, с собакой ли — их тут же убивал Глам. А весною, во время высокого солнца, снова пошла на убыль его сила. Торхалль захотел вернуться на свою землю. Ему нелегко было сыскать себе людей, но все же он снова обосновался на
Торхаллевом Дворе. А только лишь наступила осень, снова началось все по-старому, и Глам стал досаждать сильнее, особенно мучил он хозяйскую дочку, и в конце концов довел ее до смерти. Много испробовали разных средств, но все без толку. Людям казалось, что все идет к тому, что опустеет и вся Озерная Долина, если только не придет откуда-нибудь спасение».
В конце концов Глама побеждает главный герой саги, Греттир, сын Асмунда. Из любопытства он подстерегает живого мертвеца в доме Торхалля и вступает с ним в поединок: «Пошла у них тут битва не на жизнь, а на смерть. […] И когда Греттир видит, что ему не устоять, он навалился всею тяжестью на грудь Гламу, а ногами в то же время уперся в камень, вросший в землю у самых дверей. К этому Глам не приготовился. Он тянул в это время Греттира на себя, и вышло поэтому, что он опрокинулся назад и вылетел задом из дверей, так что плечи его сорвали притолоку, и крыша — стропила и мерзлый дерн — все разлетелось.
Свалился он так, навзничь и головой наружу, а Греттир — на него. Ярко светила луна, и густые облака то закрывали ее, то открывали. И вот, когда Глам упал, луна как раз вышла из-за облака, и Глам уставился на Греттира. Греттир сам говорил, что это был один-единственный раз, когда он содрогнулся. И тут на него нашла такая слабость, от всего вместе — от усталости и от пристального взгляда Глама, — что он был не в силах занести меч и лежал между жизнью и смертью.
А Глам, превосходивший бесовской силой всех других мертвецов, сказал тогда вот что:
— Ты приложил много труда, Греттир, чтобы встретиться со мной. Но нет ничего удивительного, если наша встреча будет тебе на беду. И вот что я тебе скажу: теперь ты достиг только половины той силы и твердости духа, которые были бы тебе отпущены, если бы ты со мною не встретился. Я не могу отнять у тебя силу, которая уже при тебе. Но в моей власти сделать так, что ты никогда не станешь сильнее. Ты, правда, и теперь достаточно силен, как многим предстоит убедиться. Ты прославлен здесь своими подвигами, но отныне будут твоим уделом изгнание и тяжбы об убийствах, и едва ли не всякий твой поступок обернется тебе на беду и злосчастье. Тебя объявят вне закона, и уделом твоим станет одинокая жизнь на чужбине. Я насылаю на тебя проклятье, чтобы этот мой взгляд всегда стоял у тебя перед глазами. И тяжко тебе покажется оставаться одному, и это приведет тебя к смерти.
И только Глам сказал это, как сошла с Греттира напавшая на него слабость. Занес
он теперь меч и срубил Гламу голову, и приложил ему к ляжкам. Тут появился и хозяин: в то время, как Глам говорил, он оделся, но не посмел выйти, пока тот не был убит. Торхалль воздал хвалу Богу и очень благодарил Греттира за то, что он одолел этого нечистого духа. Потом они взялись за дело и сожгли Глама дотла. После этого они сложили золу в кожаный мешок и зарыли подальше от пастбищ и дорог».
И после этого события, добавляет рассказчик, «в одном переменился теперь Греттир: он стал так бояться темноты, что с наступлением ночи даже не решался один выходить. Мерещились ему тогда всякие страсти. С тех пор и стали говорить, что тому, кто все видит не так, как оно есть, Глам застилает глаза или над ним глумится» (пер. О.А. Смирницкой).
Персонаж «Саги о Людях с Песчаного Берега», Торольв Скрюченная Нога, после смерти также становится драугом и опустошает всю округу: «…в волов, на которых везли тело Торольва, вселилась нечистая сила, а любая скотина, подходившая близко к могиле Торольва, бесилась и выла до самой смерти. Пастух на хуторе в Лощине стал приходить домой чаще обычного, потому что Торольв гнался за ним. Однажды осенью в Лощине случилось такое событие, что ни пастух, ни скотина не вернулись домой. Когда наутро отправились на поиски, пастуха нашли мертвым поблизости от могилы Торольва; он был весь черный как уголь, и все косточки у него были переломаны. Тело пастуха засыпали камнями возле могилы Торольва. Весь скот, ходивший в долине, либо сдох, либо бежал в горы, и с тех пор его больше не видели. Если же на могилу Торольва садились птицы, они сразу падали замертво. Привидение столь разгулялось, что ни один человек не решался отпускать свой скот в эту долину. На хуторе в Лощине по ночам часто слышался страшный грохот; люди заметили также, что кто-то частенько ездит на коньке крыши.
С наступлением зимы Торольв стал часто появляться уже в самом доме; сильнее всего он досаждал хозяйке; от этого пострадало немало людей, а сама хозяйка тронулось умом. В конце концов, хозяйка умерла от этой напасти; ее тоже отвезли в горы в Долину Реки Тора и похоронили под грудой камней рядом с Торольвом. После этого с хутора бежали все, кто там еще оставался. Тогда Торольв принялся разгуливать по всей долине; его появления были столь зловредны, что все хутора в долине опустели — часть народа он свел в могилу, а часть согнал прочь. При этом всех, кто умирал, видели разгуливающими вместе с Торольвом» (пер. А.В. Циммерлинг, С.Ю. Агишев). Утихомирить живого мертвеца удалось, только перезахоронив его на дальней скале и окружив новую могилу высокой изгородью.
Менее типично описание драуга, в которого превратился могучий воин Гуннар, в исландской «Саге о Ньяле»: «Им показалось, что курган раскрылся и что Гуннар повернулся в нем и смотрит на луну. Им почудилось, будто в кургане горят четыре огня, и в нем очень светло, и будто Гуннар весел, и лицо у него радостное».
Известна также разновидность драуга — хаугбуи (haugbui), отличавшаяся тем, что последний обычно не покидал место своего захоронения и нападал лишь на тех, кто вторгался на его территорию. •
Изначально задумывалось как перечень мотивов, но со временем обросло еще и небольшим комментарием по сказкам.
Драуг - это исландский термин для ожившего покойника. Мотивы, свойственные эпизодам с драугами:
- у покойника есть свое тело, он не бестелесный призрак: один из способов убийства драуга - отрубание головы и приложение ее к ляжкам; у тела, даже если обличье животного, глаза человека (тюлень с глазами человека); у драуга видны даже очертания лица; драуга можно ранить;
- покойник владеет своим телом: он быстро бегает, может драться как без оружия, так и с оружием; может забираться на крышу дома и ломать крышу, или беситься на коньке крыши;
- тело покойника становится тяжелым: драуг ложится - бревна всего дома скрипят; несколько лошадей не в состоянии везти тело будущего драуга; гроб с покойником-драугом несут несколько мужчин; требуется сила, чтобы вынести гроб покойной из дома; тяжелое тело пастуха находят в поле;
- драуг обретает значительную физическую силу: драуг запросто разбивает изнутри гроб в железных оковах, пробивает головой дыру в двери; железные объятия драуга сковывают героя;
- тело драуга становится огромного размера: тело раздувается, становится большое, как у быка; голова в доме достает до крыши; драуг в обличье тюленя отличается от других тюленей большим размером; гость на хуторе ночью видит огромного мертвеца на крыше; драуг просовывает голову в дверь и голова выглядит огромной;
- время деятельности драугов - ночь: к ночи тело покойника тяжелеет; ходит по ночам; встречается ночью (когда герой ищет корову); к вечеру тело тяжелеет, что его дальше везти не могут; гость на хуторе ночью видит драуга; драуг приходит во двор каждую ночь;
- синий цвет кожи драуга: кожа синяя, как у Хель; кожа иссиня-черная; черно-синяя кожа также и у жертвы драуга;
- драуг владеет оборотничеством: может превращаться в корову (в этом обличье заманивает героя); заново рождается теленком (корова слизала с земли частичку пепла, которую не развеяли после сожжения драуга); превращается в тюленя (голова тюленя выглядывает из подпола; из сарая с вяленой рыбой виднеется тюлений хвост); бык, рожденный коровой "от" пепла драуга, поднимает хозяина на рога, убегает и топиться в болоте;
- у покойника что-то указывает на связь с потусторонним: тело непохоже на человека; выглядел как тролль; тело раздутое, как у тролля; сводит с ума одним своим видом; взгляд драуга обладает парализующей силой (сюда ли этот мотив?); тело пастуха, которое становится драугом, находят рядом со следами борьбы, а огромные следы уходят в горы (нашедшие предполагают схватку со злым духом);
- драуг обладает сверхестественными возможностями: неимеверной силой, парализующим взглядом, может управлять погодой, видеть будущее; может дать совет, но никогда мудрость;
- драугом может стать практически любой человек: обычные крестьяне, колдун, мужчина, женщина; причина смерти варьируется: убийство в бою, смертельная рана, смерть в эпидемии, смерть от болезни; благочестивая и мудрая женщина становится драугом;
- тело предают земле в случайном месте: тело слишком тяжелое, поэтому лошади не могут его довезти до церкви - хоронят у горы (лошади довезли до спуска с горы); труп становится тяжелым, а место убийства далеко от церкви - хоронят на пустынном и безлюдном месте; труп оставляют на песчаном холме и засыпают камнями;
- деятельность драуга связана с нарушением определенных правил, а их восстановление избавляет от драуга: хозяин хутора похоронен под порогом, после перезахоронения в положенном месте перестает приходить; тело похоронено в случайном месте, после перезахоронения перестает вставать; женщина возвращается, т.к. нарушили данное ей обещание;
- у драуга есть связь с людьми: возвращается, потому что не выполнили обещание (не сожгли все имущество); способ убить драуга - закопать его тело в месте, где не бывает людей и которое находится далеко от селения (не всегда помогает), либо сжечь; ведет себя как человек (поднимается на локтях, спускает ноги с постели и нащупывает башмаки); несмотря на физические изменения люди узнают в драуге человека;
- причиняет вред людям: убивает людей на хуторе и своих домочадцев; травит мором домашних животных; рушит постройки; разбирает или ломает крышу; иногда ломает кости жертвам;
- может быть связан с сокровищами: охраняет сокровища своего могильного кургана;
Этимология слова "драуг": 'draugr' (сов. исл. draugur, фар. dreygur, норв. диал. draug, др. дат. drog ), которое родственно др.-в.-нем. gitrog, др.-н.-нем. getroc, ср.-нид. ghedroch(t) ‘обман’, др.-сакс. bidriogan, др.-в. нем. triogan ‘обманывать’, ‘вводить в заблуждение’, авест. draoga ‘ложь’, др.-ирл. auddrach ‘призрак’ инд.-герм. *dreugh ‘вредить’, ‘обманывать’.
Драуг, в целом, связывается с потусторонним миром. На это указывают перечисленные веши мотивы, особенно большой размер, значительный вес, ночное время активности, похожесть на тролля и непохожесть на человека, цвет кожи.
Мертвых могли оживлять намеренно (некромантия), однако отличие в этом случае от других обитателей холмов и могил (предки, дарующие что-то, празднующие; вельва) заключается в том, что целью поднятия мертвецов было намерение использовать их силу, а не получить некий дар или мудрость, как в случае с талантливыми предками или вельвой ("спящей" вельвой, как в "Прорицании вельвы"Wink. В отношении предков и вельвы речь идет, скорее, о пробуждении ото "сна", а не об оживлении.
Поскольку речь идет прежде всего о фольклорной традиции, то четко установить грань между мотивом собственно ожившего мертвеца и мотивом потусторонней силы в целом практически невозможно, тем более, что мотив потусторонности присутствует и в сюжетах с ожившим мертвецом. Можно сказать, что в определенной мере оживший мертвец представляет собой переходное состояние "души": в нем все еще видят человека, он связан с захоронением и земными вопросами (например, долг, деньги, богатство), но при этом уже говорят о его связи с потусторонним, в частности, через сравнение цвета кожи с Хель ("кожа синяя, как у Хель"Wink. Х.Эллис обращает внимание прежде всего на то, что одной из основных характеристик оживших мертвецов является тесная связь с телом. И, действительно, после уничтожения (сожжения, перезахоронения или захоронения в отдаленном месте) оживший мертвец перестает посещать людей. Я. Гримм, рассматривая лингвистический материал, говорит о связи оживших мертвецов с блуждающими огоньками и призраками, т.е. бестелесными существами.
Я.Гримм обращает внимание, что др.-верх.-нем. gitroc означало "мнимое появление" и использовалось для обозначения альвов и других демонических существ. Также др.-сев. draugar описываются как охваченные огнем: "hauga eldar brenna", "lupu upp hauga eldarnir". Я.Гримм также указывает на аналогию с народным поверьем, что души, которые не были приняты в рай, беснуются в ночи, как испуганные птицы, в огне в полях и на лугах. Такие огоньки (ignis fatuus, fox-fire, will-o'-wisps) уводят путника, принявшего их за огни деревни, в болота, на тропы нечистой силы (в описании: садятся на спину человека и неистово бьют крыльями). Путнику следует одной ногой идти по проезжей дороге, т.к. огни могут одолеть человека только в полях, лугах, лесах и т.п.
В сказках огоньками, уводящими путника с пути, могут быть души некрещенных детей. Хотя в форме сказки этот мотив христианизирован, он все же указывает на интересные для целей этой заметки сказочные параллели: это мотив блуждающих огней и мотив "рука из могилы".
В скандинавских сказках встречается мотив, условно называемый "рука из могилы". Основа сюжета - это нарушение религиозной нормы, например, ребенок убивает родителя. После смерти из могилы высовывается рука (часто та, которой произошло убийство родителя). Родственники предпринимают попытку снова похоронить тело, но рука на следующий день снова появляется. Предпринимается попытка восстановления религиозной нормы пост-фактум: руку бьют хлыстами в надежде, что такое наказание искупит грех, однако рука вновь появляется или совсем не исчезает. В итоге, руку отрезают и ставят на видное место в церкви как напоминание о последствиях непослушания религиозного правила.
В мотиве "рука из могилы" упоминания живого мертвеца как такового нет и нет упоминания вреда от мертвеца. Тем не менее, показательно, что рука появляется из могилы аналогично тому, как драуги выходят из могилы. Очевидно, что мотив ходячего мертвеца гораздо более ранний, чем "рука из могилы". В последнем обнаруживаются лишь элементы мотива ходячего мертвеца: цвет руки ("рука из могилы" описывается по цвету как черная, что аналогично мотиву ожившего мертвеца), четкая связь души и тела, ночное время появления, настойчивость (появляется даже после того, как отстегали хлыстами), которая здесь является, скорее всего, отголоском мотива сверхъестественной силы драуга. В обоих мотивах имеет место нарушение социального правила, но если в первом речь идет о правилах, касающихся социального общежития, то во втором случае - о религиозных предписаниях. Исходя из этого элемента, разнится и исход: в первом случае перезахоронение или выполнение обещания возвращает ситуацию в status quo и драуг перестает приходить, т.е. восстанавливает социальный порядок, то во втором случае рука из могилы отрубается и выставляется на обозрение как напоминание о правиле, что говорит о символической нагрузке сюжета, которая отсутствует в мотиве драуга, при этом восстановления социального порядка в отношении умершего не происходит.
Несколько особняком идет ряд скандинавских сказок, где "рука" и младенец фигурируют относительно огня. Есть несколько сказок о т.н. "воровских огнях". "Воровские огни" - это магический артефакт, изготовленный из руки неродившегося младенца и специальным образом заговоренный. Действует только у того, кто его сам добыл этот огонь. У неродившегося ребенка отрезают руку, сушат и заговаривают. Действие заключается в том, что пока горит огонь на этой руке, никто в доме не может проснуться, т.е. действует подобно встречающему даже в поздних исландских сборниках "шипу сна". Зажигается и зажигается "рука" силой мысли. Также рука может давать невидимость владельцу. Связь с описанным выше сходным сюжетом я затрагивать не буду. С мотивом драуга "воровские огни" роднят несколько элементов: это использование силы, недоступной обычному человеку (невидимость, возможность насылать сон), использование (в случае "воровских огней" рука сама не сгорает, а огонь этот особой природы) материала мертвого тела, которому придается своя собственная жизнь (в случае драуга показательным для этой параллели будет сюжет, где корова слизывает пепел сожженого драуга, рождает теленка-драуга, который потом убивает своего хозяина, изначального драуга сжигавшего, и бросается в болото (огоньки тоже болотные!)). Мотив сна в рамках "воровских огней" может быть сравнен со способностью драуга парализовывать своим взглядом, поскольку сон - это в некотором смысле паралич, хотя и заметно облегченный по сравнению с собственно взглядом драуга. Но это и обосновано тем, что в случае с драугом речь идет о непосредственном взаимодействии, тогда как в случае "воровских огней" взаимодействие с потусторонним миром опосредовано артефактом. Я.Гримм приводит сюжет, где дух-огонек является ребенком, держащем в своей руке горящую головню.
Приведенная выше параллель подтверждает соображения Я.Гримма с оговоркой, что огоньки (как показатель бестелесности) могут присутствовать в качестве факультативного элемента, характеризующего связь с потусторонним миром.
Еще один родственный мотив сказок - это собственно блуждающие огоньки. Поскольку он известен и по русским сказкам, то останавливаться на нем я не буду, указав, что лингвистический материал, приводимый Я.Гриммом, говорит о связи блуждающих огоньков с альвами и духами у скандинавов и германцев. Блуждающие огоньки как духи имеют способность принимать обличье животного, такая же способность свойственна и драугам. Известны такие названия блуждающих огоньков, как dwerlicht (вращающееся пламя), elflicht, dwellicht. Второе слово ("эльфийский свет"Wink указывает на параллель, довольно ярко выраженную в ирландском и британском фольклоре, где блуждающие огоньки - это дороги фейри. Dwellicht происходит от dwelen, dwalen - сбивать с пути, уводить прочь. Интересно и нидер. droglicht, прямо указывающее на образ драуга.
Перечень саг с эпизодами о драугах:
"Саги о людях с Песчаного берега" (гл. LXIII)
"Саги о Битве на Пустоши" (гл. IX)
"Саге о людях из Флоуи" (гл. XIII)
"Саге о Греттире" (гл. XVIII, XXXII, XXXIV, XXXV)
"Саге о людях из Лососьей долины" (гл. XVII, XVIII, XXXVIII, L, LIV, LV)
"Саге о людях с Песчаного Берега" (гл. XXXVI, LXIII)
"Саги о гренланцах" (гл. VI)
Использованная литература (все три есть в сети):
Н.В. Березовая. Тело как граница: "Оживающие мертвецы" в "сагах об исландцах"
HILDA RODERICK ELLIS. THE ROAD TO HEL. A Study of the Conception of the Dead in Old Norse Literature. NEW YORK, 1968.
Jacob Grimm. Teutonic Mythology. Chap.13. В статье William Sayers из сборника Monster Theory рассказывается про совершенно фееричный способ умертвить драуга, чтоб уж раз и навсегда. В принципе, ему можно заморочить голову, если во время похорон проломить стену и через нее вынести тело - теоретически, в этом случае он забудет дорогу назад. Но гарантию никто не даст (вдруг у него окажется навигатор GPS?) Можно так же обложить могилу камнями, но драуг сильный, он прорвется. Или сжечь его тело, но вот незадача - в одной саге рассказывается про корову, слизавшую пепел покойника, после чего у нее родился гибридный теленок с духом драуга. Положиться можно только на один проверенный способ - отсечь вредному покойнику голову, а потом...
...а потом или положить ее у него между ног в самой что ни на есть двусмысленной позе, или положить ее ему же на зад, носом в расщелину между ягодиц. Ужасно стыдно! После того, как его так закозлили, оживший мертвец уже не посмеет показаться на глаза соплеменникам.
b-a-n-s-h-e-e.
***
Часть I. Введение и описание «ходячего мертвеца»Представления о загробной жизни у викингов зачастую отличались куда большей непосредственностью, нежели возвышенные скальдические предания о Вальхалле или христианских Небесах: верили, что, как только мертвое тело помещают в могилу, оно «обретает странную, чуждую человеку жизнь и силу» (Hilda Ellis-Davidson. The Road to Hel. Westport CT, Greenwood P., 1943, p. 96). Покойник продолжал вести в могиле некую псевдо-жизнь, не в виде духа или привидения, а скорее как нежить, во многих отношениях сходная с носферату или центрально-европейским вампиром.
Нежить эта была известна под различными именами. В норвежских сагах чаще всего упоминается хаугби (haugbui, от haugr — «курган») — обитатель кургана, труп, продолжающий жить в своей могиле. Хаугби почти никогда не покидает места своего захоронения. В исландских сагах обычно фигурирует драуг (draugr), известный также под названием аптганг (aptrgangr, букв. «ходящий после», «разгуливающий после смерти»). Это «оживший труп, выходящий из своего могильного холма или доставляющий людям беспокойство по дороге к месту погребения» (Ellis-Davidson, The Road to Hel, p. 80). Но и в том, и в другом случае у скандинавской нежити есть физическое тело — собственно, труп покойного, и хотя для ее описания может употребляться слово «привидение», современные представления о призраках или бестелесных духах к этим сверхъестественным существам неприменимы.
Описания внешности этих существ лишний раз подчеркивают, что речь идет именно о «ходячем трупе». К ним применяются эпитеты hel-blár («черный, как смерть» или «синий, как смерть») и ná-folr («бледный, как труп»). В «Саге о людях с Песчаного берега» пастух, убитый драугом и обреченный сам превратиться в нежить, становится «весь черный как уголь», а когда убившего его драуга извлекают из могилы, тот оказывается «черным, как смерть». Глам — превратившийся в нежить пастух из «Саги о Греттире» — был якобы темно-синим, а в «Саге о людях из Лососьей долины» одной женщине является во сне умершая колдунья, и когда могилу покойницы вскрывают, то находят там кости — «синие и страшные».
Еще более ужасным казалось то, что оживший труп был способен увеличиваться до огромных размеров. И это не имело никакого отношения к обычному вздутию трупа из-за газов, выделяющихся при разложении, — поскольку тело драуга вдобавок оказывалось невероятно тяжелым и зачастую оставалось неразложившимся даже много лет спустя после смерти. Торольв из «Саги о людях с Песчаного берега» «еще не разложился и вид имел наимерзейший… раздулся до размеров вола» и стал таким тяжелым, что поднять его без рычага было невозможно.
Огромные размеры приписывались драугу, чтобы подчеркнуть его колоссальную физическую силу. В сагах рассказывается, каких огромных трудов родственникам стоило распрямить тело для погребения. Аптганг обладал такой силой, что мог буквально раздавить жертву насмерть. Когда находят убитого Гламом пастуха («Сага о Греттире»), у того «свернута шея, и каждая косточка переломана». В описаниях сражений между человеком — героем саги и драугом обычно не выражается заведомой уверенности в победе героя, хотя тот и сам наделен огромной силой: противники не уступают друг другу, и на протяжении схватки верх берет то один, то другой.
В некоторых рассказах драуги обладают магической силой и способны предсказывать будущее, управлять погодой и превращаться в животных. Живой мертвец может являться в облике тюленя («Сага о людях с Песчаного берега», «Сага о людях из Лососьей долины»), огромного освежеванного вола, серой лошади со сломанной спиной, без ушей и хвоста, или кошки, которая садится спящему на грудь и постепенно становится все тяжелее и тяжелее, пока человек не умирает от удушья. В «Саге о Хромунде Грипссоне» драуг Траин превращается в «существо, похожее на кошку» (kattakyn): «Тут Траин обернулся троллем, наполнив зловонием весь курган, и впился когтями Хромунду в затылок, сдирая мясо с костей…».
Кроме того, драуги могли проходить сквозь землю и камень, как Храпп Убийца из «Саги о людях из Лососьей долины»: «Олав хотел броситься на Храппа, но тот провалился сквозь землю, где стоял, и на том их схватка закончилась». Таким образом, они имели возможность без труда выходить из могилы и возвращаться обратно.
Часть II. Обиталище драугаДрауг обитал в своем кургане. Несмотря на то, что в Скандинавии бытовали различные формы погребения (согласно литературным источникам и археологическим данным, тела покойных кремировали, погребали в ладьях, под грудами камней или в христианских могилах), все же наиболее распространенным способом в сагах предстает захоронение в кургане. Курган состоял из погребальной камеры, сложенной из камней и покрытой бревнами, и насыпанного поверх нее высокого земляного холма.
Курган Кара Старого в «Саге о Греттире» представлял собой большой сруб с бревенчатым настилом, скрытый под земляной насыпью. В «Саге о Харальде Прекрасноволосом» упоминается курган «из камня и глины», «укрепленный бревнами». В «Саге об Олаве сыне Трюггви» Хакон ярл прячется от Олава в яме, засыпанной землей, наподобие кургана:
«Раб [Карк] вырыл в хлеву глубокую яму. Он убрал землю прочь и положил сверху бревна. Тут Тора рассказала ярлу, что Олав сын Трюггви приплыл во фьорд и убил его сына Эрленда. Затем ярл влез в яму и с ним Карк, а Тора закрыла яму бревнами, насыпала сверху земли и навоза и загнала в хлев свиней. Хлев этот был рядом с большим камнем».
Хотя это и не настоящий могильный курган, но упоминание о стоящем рядом большом камне должно вызывать у читателя ассоциации с местом погребения: под такими камнями, согласно поверьям, обитали цверги (карлики) и различная нежить.
Иногда над курганами вспыхивает яркий свет, словно от множества гнилушек. Это сияние «окружает курганы и отмечает границу между мирами живых и мертвых» (Ellis-Davidson, Road to Hel, p. 161). Греттир видит такое зарево над курганом Кара Старого:
«Как-то поздно вечером, собравшись идти домой, Греттир заметил, что на мысу, ниже Аудунова Двора, вспыхивает яркий огонь. […]
— У нас в стране, — сказал Греттир, — когда видят подобный огонь, говорят, что он идет от клада.
Бонд отвечает:
— Властелин этого огня таков, что навряд ли тебе будет польза допытываться».
Нередко погребальные холмы располагались по соседству с семейной усадьбой, а в англо-саксонских межевых грамотах курганы во многих случаях упоминаются в качестве межевых знаков, отмечавших границу земельных владений. По традиции, человек, наследующий участок земли, должен был перечислить поименно своих предков, владевших этой землей, и указать местоположение их курганов, — только после этого за ним признавалось право наследования. Возможно, в этом и состоит причина, по которой в исландской «Книге о занятии земли» с такой дотошностью указывается и описывается местонахождение могил покойных поселенцев.
Кроме того, со скандинавскими драугами ассоциируются определенные формы ландшафта, в первую очередь — лощина (hvammr), «короткая долина, окруженная горами, но с одного конца открытая в одном направлении» (Reidar T. Christiansen, "The Dead and the Living," in Studia Norvegica 2 (Oslo, 1946), pp. 88-89). Некоторые источники передают также поверье о «мертвецах внутри горы» — гора такого рода функционально отождествляется с курганом. Лощина — это пограничная полоса между горой и долиной, между усадьбой и погребальным холмом, между живыми и мертвыми. Окруженный высокими горами, он защищен от прямых лучей солнца; на протяжении нескольких недель в середине зимы на дне такой лощины совсем темно. Именно таким местом была Тенистая Долина, в которой бесчинствовал Глам из «Саги о Греттире».
Любопытно, что «возвращения покойников ожидали на Рождество или на Новый год, в пору древнего праздника Йоль, приходившегося на середину зимы» (Ellis-Davidson, "The Restless Dead," p. 162). Нападения нежити начинались поздней осенью и учащались зимой, в то время года, когда ночи самые длинные. По-видимому, драуги умели также временно наводить темноту и в дневные часы или окутываться облаком тумана, чтобы подкрасться к жертве незаметно. По ночам же драуг таился в зыбком мареве тьмы и лунного света, наподобие того, что описано в «Саге о Греттире»: «Ярко светила луна, и густые облака то закрывали ее, то открывали». Подчас лунный луч, блеснувший во тьме, высвечивает голую кость или отражается призрачным светом в глазах драуга, что еще более усугубляет ужас происходящего.
Во многих сагах отражено «представление об умершем, который живет в могильном кургане, точно в доме, и ревностно охраняет свои сокровища» (Ellis-Davidson, Road to Hel, p. 90). Курган мыслился пиршественной залой мертвеца, как в «Пряди о Торстейне Бычьей Ноге», где Торстейна приглашают в «усадьбу» хаугби, уставленную пиршественными скамьями и полную пирующих воинов, или как Святая Гора, в которую «переселились» покойные родичи Торольва, Бородача с Мостра, — «внутри той горы горели большие огни, и доносился изнутри шум пиршества и гул голосов» («Сага о людях с Песчаного берега»).
В древнеанглийской поэзии средоточием пиршественной залы предстают сокровища и дары, вручаемые на пиру, — а в курганах обычно и впрямь хранились драгоценные сокровища: «Там была сложена груда сокровищ — золото и серебро, а под ноги ему поставлен ларец, полный серебра» («Сага о Греттире»). Несметные богатства в схожем контексте описываются также в «Пряди о Торстейне Погибели Хуторов» и в упоминавшейся уже «Пряди о Торстейне Бычьей Ноге».
Поэтому нежить в некоторых отношениях ассоциируется с цвергами-карликами: цверги владеют такими великими сокровищами, как ожерелье Брисингамен (которое они позднее уступили Фрейе), и обитают в недрах гор, под камнями или внутри больших каменных глыб. Многие имена из «Перечня карликов» в «Старшей Эдде», по-видимому, связаны с нижним миром смерти, холода и распада.
Сокровища, заключенные в курганах, неудержимо влекли к себе грабителей могил, о чем свидетельствуют как исторические данные, так и литературные источники. Во многих сагах подобные ограбления описываются в достоверных подробностях, как, например, в «Саге о Греттире»:
«Греттир раскопал курган, и пришлось ему изрядно потрудиться. Он работает без передышки, пока не доходит до сруба. День к тому времени уже был на исходе. Он проломал бревна. Аудун заклинал его не заходить в курган. Греттир просил его подержать веревки.
— А уж я докопаюсь, кто здесь живет!
Спустился Греттир в курган. Там было темно и запах не из приятных».
Однако грабителю следовало быть настороже, ибо хаугби бдительно охранял свои сокровища и свирепо атаковал любого, кто нарушит его покой:
«Греттир взял все эти сокровища и понес к веревкам, но в то время, как он шел к выходу из кургана, кто-то крепко его схватил. Он бросил сокровища, и они кинулись друг на друга и стали биться ожесточенно. Все разлеталось у них на пути. Могильный житель нападал свирепо. Греттир все пытался ускользнуть. Но видит, что от того не уйдешь. Теперь оба бьются нещадно. Отходят они туда, где лежат конские кости. Здесь они долго бьются, то один упадет на колени, то другой. Все же кончилось тем, что могильный житель упал навзничь со страшным грохотом. Тут Аудун убежал от веревок: он подумал, что Греттир погиб».
Помимо зубов, когтей и общей физической силы, хаугби, обороняющий свое жилище, мог пустить в ход также trollskap — злые чары, как поступает Агнар в «Саге о Золотом Торире» или описанный Саксоном Грамматиком в «Деяниях данов» злобный обитатель кургана Митотин (Mithothyn), который «наслал зловонное моровое поветрие и своими посмертными злодействами оставил по себе память едва ли не худшую, нежели теми, что вершил при жизни».
Более того, хаугби — не единственный обитатель кургана, которого следовало опасаться грабители. В некоторых сагах упоминается также мать мертвеца, которая «вооружена длинными когтями и поэтому описывается как ketta (кошка); она еще более ужасна, чем ее чудовищный отпрыск» (Nora K. Chadwick, "The Monsters and Beowulf," in The Anglo-Saxons: Studies in Some Aspects of their History and Culture Presented to Bruce Dickens, ed. Peter Clemoes. London, Bowes and Bowes, 1959, p. 178).
Часть III. Меры предосторожности: как защититься от «ходячего мертвеца» Если хаугби, как правило, спокойно сидел в своем кургане, нападая лишь на тех, кто вторгался на его территорию, то драуг, напротив, то и дело выходил из могилы, нанося живым немалый ущерб. Страх перед злобной нежитью в Скандинавии был очень силен. Широко распространенные в эпоху викингов меры предосторожности, призванные помешать покойному восстать из могилы, кое-где применялись и вплоть до XX века.
«…в домах, где сохранялся старый уклад, тщательно соблюдали [некоторые древние обычаи]: на грудь покойного помещали раскрытые ножницы, а под одежду подкладывали перекрещенные соломинки. Большие пальцы ног крепко связывали, чтобы покойник не смог сделать ни шагу. В подошвы втыкали иглы. Когда гроб выносили из дома, носильщики трижды поднимали и опускали его, всякий раз поворачивая головой в другую сторону, так чтобы образовался крест. Стулья или скамьи, на которых стоял гроб, опрокидывали, и все горшки и кастрюли в доме переворачивали вверх дном. Заупокойная молитва, которую священник читал при погребении, воспринималась как магическое заклинание, которое должно привязать покойника к могиле и не допустить его возвращения» (H.F. Feilberg, "The Corpse-Door: A Danish Survival," in Folklore 18 (1907), p. 366).
Кроме того, в домах проделывали специальные «трупные двери» — отверстия в стенах, через которые гроб выносили ногами вперед. Затем их закладывали кирпичами, чтобы умерший не вернулся: верили, что беспокойный мертвец способен возвратиться только тем же путем, которым покинул дом. Ногами вперед гроб выносили для того, чтобы умерший не мог как следует разглядеть дорогу, по которой его несли к месту погребения (Ibid, pp. 364-369). Эти же меры предосторожности описаны и в «Саге о людях с Песчаного берега»:
«Вот Арнкель входит в горницу, идет вдоль скамьи и заходит Торольву за спину; он просил никого не приближаться к Торольву, покуда ему не закроют глаза и не уложат как полагается. Затем Арнкель подхватил Торольва за плечи, но даже ему не хватило сил, чтобы сразу уложить его. Потом он обмотал голову Торольва покрывалом и убрал тело, как полагалось по обычаю. После этого он распорядился сломать стену за спиной Торольва и вытащить его наружу через пролом».
Часть IV. Нападения драугов
Разлагающиеся трупы распространяли заразу и болезни, как в приведенном выше эпизоде со злым колдуном Митотином из «Деяний данов», но в древности, когда никто не имел представления о микробах, причиной «морового поветрия» считалась злая воля драуга, обращенная на живых. Из этого следовало, что драуг в принципе способен и на физическое нападение. Полагали, что драуги тоскуют по всему, чего они лишились, расставшись с жизнью, и завидуют живым. Очень трогательно это описано в «Саге о Фритьофе Смелом», где умирающий конунг говорит сыновьям: «Желаю, чтоб меня похоронили против самого кургана Беле, по ею сторону фьорда, у моря. Будет нам тогда привольно перекликаться о предстоящих событиях».
Образ умерших друзей, переговаривающихся между собой в могилах, не вселяет ужаса: здесь отражена лишь несбыточная мечта о том, чтобы дружба, связывавшая людей при жизни, продолжалась и после смерти. Однако эта тоска по уходящей жизни нередко приобретает и более зловещие оттенки, как в истории Храппа Убийцы, жестокого и свирепого человека, который на смертном одре обращается к своей жене с такими словами: «И когда я умру, то такова моя воля, чтобы мне вырыли могилу в дверях дома и чтобы я был погребен стоя в дверях. Так я смогу лучше следить за моим хозяйством». Далее в саге повествуется: «После этого Храпп умер. Было сделано все, как он сказал, так как жена не осмелилась сделать иначе. Но если с ним худо было иметь дело, когда он был жив, то еще хуже стало, когда он был мертв, потому что он часто вставал из могилы» («Сага о людях из Лососьей долины»).
Страстная жажда вернуть и удержать отнятое смертью отличает драугов, фигурирующих в «Саге о людях с Песчаного берега». В главные покои усадьбы на Вещей Реке возвращается утонувший бонд Тородд со своими спутниками, а затем являются мокрые, покрытые грязью шестеро драугов во главе Ториром Деревянной Ногой. «Домочадцы рванулись из кухни прочь, чего следовало ожидать; у них под рукой ни оказалось ни лучины, ни разогретых камней, ни прочих нужных вещей, так что от огня в тот вечер им не было ровно никакого прока». Ходячие мертвецы не только выгоняют людей на ночь из теплых покоев, но и наверняка учиняют беспорядок в доме, так что он становится непригодным для нормальной жизни даже днем.
В этих сагах «умершие не переходят в лучший мир — напротив, они лишаются привычных домашних удобств и общества своих родичей. Им холодно и голодно» (Christiansen, "The Dead and the Living," p. 10). Поэтому ничего удивительного в том, что драуг завидует живым и время от времени возвращается в дом, который все еще считает по праву своим.
Зависть к живым тесно связана с другой движущей силой, которой подчинены самые опасные и могущественные из драугов, — с обуревающим их неутолимым голодом. Этот голод описывается в истории Асмунда и Арана, братьев по оружию, которые дали друг другу клятву, что, если один из них умрет, то второй должен будет три ночи просидеть над ним в кургане. Когда Аран умер, Асмунд воздвиг над ним курган и поместил туда имущество покойного, его стяги и оружие, сокола, пса и коня, а затем приступил к обещанному бдению. «В первую ночь Аран встал с кресла, убил сокола и собаку и съел их. Во вторую ночь он опять встал, убил коня и разорвал его на куски; затем он стал рвать плоть коня зубами, и кровь стекала у него изо рта, покуда он ел. […] В третью ночь на Асмунда напала сонливость, и он пришел в себя лишь тогда, когда Аран схватил его за уши и оборвал их» («Сага об Эгиле Одноруком и Асмунде Убийце Берсерков»).
Саксон Грамматик, пересказывая этот сюжет, добавляет: «Но не насытился он ни конем, ни псом; он обратил ко мне свои сверкающие когти и оторвал мне ухо, располосовав щеку» (голодные драуги фигурируют также в «Саге о Греттире» — Глам и в «Саге о Хромунде Грипссоне» — Траин). Очевидно, что драуг, пожрав животных, попытался затем полакомиться самим Асмундом. Не исключено, что сверхъестественный голод драуга — физическое проявление терзающей его жажды жизни. Именно поэтому современные исследователи нередко проводят параллели между драугами и вампирами: «В этих преданиях труп, живущий в могиле, всегда наделяется вампирскими наклонностями, сверхчеловеческой силой и неистовым желанием уничтожить любое живое существо, посмевшее проникнуть в курган» (Ellis-Davidson, Road to Hel, p. 92).
Жертвами драуга, однако, становились не только те, кто вторгался в его могилу. Бродячие мертвецы истребляли домашний скот — загоняли его до смерти, разъезжая верхом на животных или преследуя их в ужасном обличье полуосвежеванного трупа. Нередко нежить вымещала свой голод и злобу также на пастухах, выпасавших скот по ночам: «в волов, на которых везли тело Торольва, вселилась нечистая сила, а любая скотина, подходившая близко к могиле Торольва, бесилась и выла до самой смерти. Пастух на хуторе в Лощине стал приходить домой чаще обычного, потому что Торольв гнался за ним. Однажды осенью в Лощине случилось такое событие, что ни пастух, ни скотина не вернулись домой» («Сага о людях с Песчаного берега»).
Убивал драуг и животных в стойлах, и неосторожных путников, и тех, кто по ночам беспечно открывал двери на стук: «Когда они сели ужинать, кто-то громко ударил в дверь. Один из них сказал: “Видно, добрые вести подоспели” — и выбежал на двор. Остальные заметили, что слишком уж долго он не возвращается. Тогда они вышли следом и увидели, что он совершенно лишился разума. Наутро он умер» («Сага о людях с Болота»).
Исландский обычай предписывал после наступления темноты тихонько стучаться в окно, и не один раз, а трижды. Сильный же удар в дверь, «в особенности удар однократный был верным знаком того, что в дом пытается проникнуть привидение или еще какое-то злобное существо» (Simpson, Icelandic Folktales and Legends, pp. 135-136).
Хотя оставаться дома по ночам было безопаснее, чем выходить наружу, драуг мог напасть и прямо на дом: «На хуторе в Лощине по ночам часто слышался страшный грохот; люди заметили также, что кто-то частенько ездит на коньке крыши» («Сага о людях с Песчаного берега»). «Езда на крыше» была одним из любимых развлечений драугов; молотя пятками по кровле, они производили ужасный шум, до полусмерти пугая жителей дома: «Кто-то лез на дом и ездил над самыми покоями, и бил по крыше пятками, так что каждая досочка трещала» («Сага о Греттире»). А иногда драуг попросту выламывал входную дверь: «Наличник у входной двери был весь сорван. И теперь на его место кое-как приколотили жерди. Перегородка, которая прежде отделяла покои от сеней, была разломана и выше поперечной балки и ниже» (там же).
Победить ходячего покойника было непросто, но скандинавы верили, что даже однажды умершего можно убить вновь. Как и многие другие сверхъестественные существа, драуг боялся железного оружия, но холодного железа было недостаточно, чтобы загнать его в могилу раз и навсегда. Сперва герой должен был выйти против драуга безоружным и побороть его голыми руками. Затем следовало отрубить ему голову, причем нередко — не простым оружием, а мечом, найденным в его же кургане. Иногда задача усложнялась: герой должен был проскочить между телом и отрубленной головой чудовища, пока труп не упадет на землю; или трижды обойти против хода солнца отрубленную голову и тело ; или вогнать в обезглавленное тело деревянный кол, подобно тому, как в других традициях предписывалось поступать с вампирами. И наконец, чтобы избавиться от драуга наверняка, следовало сжечь его останки дотла, дождаться, пока пепел остынет, а затем похоронить его где-нибудь в отдаленном месте или бросить в море. Только после этого нежить погибала по-настоящему и больше не возвращалась.























 ).
).